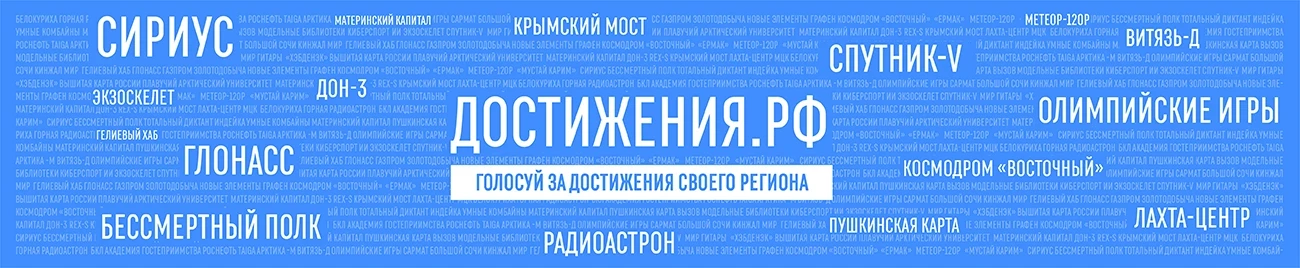Воспоминание Тиминой З. К. - комсорга военно–санитарного поезда №227, построенного на средства железнодорожников Егоршинского отделения совестно с территориальными организациями. Тогда было собрано 170 000 рублей.
Поезд состоял из 17 хорошо оборудованных вагонов. В том числе три вагона для тяжелораненых, шесть – для легкораненых, в нем также имелись вагон–изолятор, операционная, вагон–кухня, столовая, ледник, цейхауз и вагон для обслуживающего персонала в количестве 74 человек. Строительство поезда было закончено 26 декабря 1941 года. Поезд сдан комиссии УралВО и отправлен на фронт.
«ВСЕЙ своей жизнью, образованием, счастьем своих детей я обязана нашему государству, народу и партии, которая последовательно решает задачи построения коммунистического общества. Все мои родные отдали свою жизнь за становление советского государства, это отразилось и на формировании моего характера и характера моих детей.
Отец Тимин Константин Васильевич - командир партизанского подразделения на Дальнем Востоке. Умер от ран. На руках матери остались мы с братом Степаном Константиновичем. Вскоре после смерти матери (голод 1921-1922 годов подкосил ее силы) по партизанской книжке, полученной за отца, в которой значилось, чтобы государство позаботилось о детях, дало образование, нас поместили в Березовский детский дом Свердловской области. Впоследствии брат получил военную специальность, стал работать в авиации. В данный момент проживает в Харькове, в отставке. Имеет много правительственных наград. Впервые был награжден за боевые действия на озере Хасан. Участник Великой Отечественной войны.
Два родных дяди, члены партии с 1905 и 1919 гг., были моей второй семьей после детского дома. В связи с партийной работой, участием в отрядах ЧОНА, организацией колхозов своих детей не имели. Часто им приходилось менять место жительства. Я видела их целеустремленность, убежденность, интересную кипучую жизнь - это оказало на меня большое впечатление, формировало характер. Сейчас остался один дядя - Василий Павлович Горчанов. Участник гражданской и Отечественной войн. 9 лет, как овдовел. Живет на станции Монетной. Старый одинокий человек, но чувство оптимизма, мужества не покидает его до сих пор. А для меня он снова пример для подражания: стойкости, веры во все хорошее. Иногда стыдно становится за себя, когда чего-либо не выдерживаешь, нездоровится, неудачи в семье и на работе. Он всегда найдет верный путь преодоления трудностей. Его девиз: побеждают сильные, победа дается в борьбе.
ВОТ С ТАКОЙ убежденностью и любовью к своей Родине в августе 1939 года я приехала на работу в рабочий поселок Красногвардейский. С утра до вечера работала в школе.
Учителей было мало, и мне предложили работать в две смены. Вести в первую смену начальный класс, а во вторую – математику в трех пятых классах, рисование в 5-6 и черчение в 7 классе. Было надо! И справлялась. А когда ушел в армию учитель математики в Покровской школе, перевелась туда математиком. Жизнь в селе Покровском в 1940-1941 годы, до начала войны вспоминаю, как самую светлую и яркую страницу в моей жизни. Нагрузка также до предела! А вечером – Дом культуры. Ставили пьесы «Падь серебряная», «Назар Стодоля», «Бесприданница», «Гроза», «Уральская свадьба» - и все после работы. Песни, танцы, репетиции, а в воскресенье – лыжные вылазки. Было необыкновенно весело. В июне 1941 работала в пионерском лагере д. Бучино воспитателем.
22 ИЮНЯ - день яркий, солнечный. Позавтракали – ушли в поле помогать в прополке хлебов, а при возвращении обратно видим: навстречу бегут взволнованные дети и кричат: «Война!» Германия напала на Советский Союз и уже продвинулась на 15-20 километров в некоторых местах вглубь нашей территории. Это ошеломило! Смена была на исходе. 24 июня дети разъехались домой. Вторую смену в лагере не открыли.
Только туда, где фронт и моя Родина в опасности! Я с подругами Зиной Стригановой и Марусей Ивановой пошла в военкомат. К военкомату было невозможно подступиться. Добровольцев были сотни. У всех были убедительные аргументы. Но в первые дни войны никого не брали. Шла мобилизация военнообязанных. Мы, учителя Покровской школы, не пошли в отпуск. Все пошли в колхоз.
Я работала в бригаде, которая заготовливала сено. Лето, солнышко, пение птиц, пьянящий аромат трав - не верилось, что где-то за тысячами километров на западе бьются люди не на жизнь, а на смерть, своею жизнью защищая нашу тишину. Силы утраивались, а есть не хотелось. Так было тревожно на сердце. Мысли одни: туда, где трудно, туда, туда... чем-нибудь помочь. А в селе уже голосят по мертвым. Снова в военкомат. Убедила. Взяли на заметку. Велели готовиться и ждать. К этому времени я была значкистом «Ворошиловский стрелок», «ГСО», «ПВХО». Инструктор моделирования. Стала посещать курсы медсестер по укороченной программе и заниматься в отряде народного ополчения: учились ползать по-пластунски, владеть винтовкой, штыком, гранатой, пулеметом.
ЗАНЯТИЯ приводились после работы в вечернее и ночное время. С детьми слали посылки воинам, собирали средства на постройку танка. Помогали по присмотру за малышами в семьях, где мать на работе с утра до ночи, а отец на фронте. Некоторые семьи уже осиротели. Трудное время. Подвиг 28 панфиловцев под разъездом Дубосеково. Москва в опасности. Нет сил ждать. Город спешно готовит санитарный поезд в подарок Ленинградскому фронту, откуда в основном идут письма. Горком комсомола поручает организовать сбор средств и вещей в с. Покровском. Никто не остается в стороне. Все, чем только могут, стараются помочь, каждая семья отдает в подарок вилки, ложки, одеяла, подушки, книги, полотенца, матрацы, простыни – все, что может пригодиться для удобства, тепла, уюта, все для наших дорогих доблестных воинов, проливающих кровь, защищая Родину. Коллектив школы отчислил трехдневный заработок, колхозники – 2-3 трудодня.
ПОЕЗД формировался в необыкновенно короткий срок. 28 декабря 1941 г. вечером в напряженной суровой тишине он отошел от ст. Егоршино. В военкомате, прежде чем направить меня на охрану поезда, долго беседовали об опасности бомбежек, обстрелов, крушений, десантного нападения, о нелегкой военной службе, но мое решение было непоколебимо, и никто бы не смог разубедить меня. Провожать меня было некому. В команде никого знакомых не было. Заняла предложенную кем-то полку в общем жестком вагоне и после тревог и волнений уснула. Проснулась в г. Свердловске, где по прибытии замполита было сразу же собрано комсомольское собрание, на котором предложено было срочно готовиться к предстоящему рейсу погрузки раненых, провели инструктажи старшина, начальник поезда, медсестры. Распределили всех по вагонам.
Я попала в 6 вагон с сандружинницей Ниной Щербаковой и проводницей Зоей Ольховой. Это были необыкновенно милые и на редкость трудолюбивые девушки. Они не гнушались никакой самой черновой и напряженной работы. Они никогда ни на что не жаловались, а ведь им было труднее других, так как меня на первом же собрании, по рекомендации замполита, т. к. я была учительница одна из всего состава, избрали комсоргом (а моим заместителем - медсестру Инькову Асю).
Часто решая различные организационные, политические вопросы, выпускали боевые листки, рукописные журналы (редактировала и частично писала я) - все отрывало немало времени, и девочкам часто приходилось справляться одним. Мы никогда не ссорились. Этого вообще в команде не было. Наоборот, всегда подавали руку помощи или брали себе, что труднее.
Зоя и Нина всегда были инициаторами лучших начинаний. Зоя первая придумала протирать окна вагонов снаружи с помощью зубного порошка, а потом мыть вагоны с внешней стороны.
Вообще наш состав опрятностью внешней и внутренней, внутренним уютом всегда отличался от других поездов. Не напрасно с первых рейсов присвоили ему звание образцово-показательного - это было высшей наградой для коллектива.
Таких поездов было немного. Мы гордились этим, так как был наказ егоршинцев оправдать с честью их доверие (когда провожали, давали наказ такой). Все было предусмотрено для отличной транспортировки раненых и скорейшего их возвращения в строй.
1. Уют – как в домашней обстановке. Чистота проверялась дежурным.
2. Своевременное медицинское обслуживание.
3. Трехразовое питание.
4. Культурное обслуживание: беседы, читка газет, концерты, выпуск боевых листков и рукописных журналов.
За весь период транспортировки раненых не было ни одной жалобы в чей-либо адрес, наоборот сотни благодарностей получили девушки за свой самоотверженный труд. По сведениям, полученным из ленинградского медицинского архива, поезд № 227 сделал 40 рейсов, перевез 19946 человек. Все рейсы чрезвычайно различны и по составу, и по степени трудности. Каждый рейс был не похож ни на какой другой.
ПЕРВЫЙ рейс: г. Горький – Ялуторовск. Начало 1942 г. Везем молодежь кадровой армии. Исключительно дисциплинированные, скромные и терпеливые люди. У нас первый рейс. Еще ничего не умеем. Стесняемся друг друга, ведь они все в нижнем белье. Юноши. Сидят, как сурки, под одеялами. Настроение оптимистическое. У одного (фамилия Бармаков) - мандолина. И в вагоне часто слышны песни «Анюта», «Черные ресницы», «Огонек», «Моя любимая» - первые песни первых военных лет. А один, фамилию не помню, тяжело ранен. Не подает виду, что тяжело. При перевязках до крови закусывает губы, на лбу капельки пота, а он молчит, терпит. А если застонет кто-нибудь ночью, сердце оборвется, все думаешь: не умер бы. Мне их было жалко. Я уходила в купе (в вагонах были такие купе, где хранились посуда, белье, игры настольные, книги) и горько плакала. С последующими рейсами это чувство несколько притупилось, плакать было некогда, и жалость тоже была бесполезна. Надо было работать, работать и работать. Перед глазами до сих пор погрузка раненых из г. Ленинграда после прорыва блокады. Едем быстро, срочно. Приказано рассредоточиться, принять положение наибольшей безопасности (лечь вдоль швеллера на пол). Проезжаем местечко Жихарево или Жихаревка, точно не помню. Местность просматривается и простреливается прямой наводкой.
Много составов с продуктами и техникой проскочить это место не смогли. Груды сгоревших консервных банок, муки, сахара по обе стороны железнодорожного пути. Проскочили! Отбой тревоги. Скоро Ленинград. Мы с Ниной экономим хлеб, чтобы отдать ленинградцам. Белая ночь. Мертвая тишина. Никаких признаков жизни. Кругом высокая полынь, и только два пути в действии. Исковерканные рельсы, сожженные вагоны. Полное запустение. Жутко. Вдруг, почувствовав жизнь и продукты питания в поезде, на него колониями начинают прыгать с писком огромные крысы. Мы с Ниной видим это из окна. Нам страшно! Страшнее обстрела. Мы от страха лезем на третью полку и лежим там, сжавшись в комочек. Через некоторое время они так же внезапно исчезли, как и появились.
МЫ ВИДИМ, как к вагону медленно-медленно приближается женщина с синим одутловатым прозрачным лицом. Вынесла ей хлеб – не берет: много. Придет еще кто-нибудь. Не берет - думает о других. Разговорились. Ей 18 лет! Нас это потрясло до глубины души. Она же наша ровесница! Что может наделать голод! И вот погрузка: больные моряки, дистрофики – люди различных воинских званий и профессий. Они, как тени, еле передвигаются. У них нет сил. Голодные, жадные, боятся верить в свое исцеление. Вот сколько пришлось на их долю.
Нам опять повезло. Погрузили одного больного с гитарой. Худой, глаза ввалились, еле двигается, а как только устроился - песня. Он был, видимо, из Одессы, так как на протяжении всего рейса следования в тыл звучала песня «Ты ж одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе не горе не беда. Ведь ты - моряк, Мишка. Моряк - не плачет и не теряет бодрость духа никогда». И весь вагон подхватывает эти строки. Звучит такая мощь в этих обескровленных исхудавших бойцах. А после снова лежат не в силах от слабости подняться.
Первый обед: роздана посуда – чашки, ложки. Принесен настоящий хлеб. Норма хлеба раненому 600 граммов. По общему решению команды - 50% положенных для нас продуктов отдать раненым для усиления питания, но им кажется, что голоду все еще не конец. Им кажется, что должно быть больше хлеба, супа, компота. Они боятся, чтобы ни крошки хлеба не упало. Просят весить на купе целой булкой с довеской, затем, измеряя, определяют - кому? - а отделившуюся крошку прикладывают к кусочку, от которого отпала. Приходилось вести большую разъяснительную работу. Мобилизовались все: работники штаба, коммунисты, комсомольцы, что все позади, а переедание опасно, вплоть до смерти, но мы понимаем, сколько перенесли эти люди.
Через 2-3 дня все пошло своим чередом. Погрузились быстро. Готовы к эвакуации, а выехать не можем. Только тронется эшелон – обстрел. И так повторялось несколько раз. Нас отводят в Мельничьи Ручьи. Это дачная местность под Ленинградом. Переждем. Тронемся - опять обстрел. В Мельничьи же Ручьи не упал ни один снаряд, ни одна бомба. Немцы в первые дни войны сообщили в листовках, что тут они будут отдыхать, и эту местность не трогали.
ВЫЕХАЛИ под защитой ливня и тумана. Опять рейс позади. Не помню год. Были страшные бои на Украинском и Белорусском фронтах. Мы ездили бесконечно. Уже не было сил, и нас поставили на отдых. Какая забота Родины! Проснулись, а в окна вагона гроздья винограда смотрят. Дербент. Выбежали. Море Каспийское теплое, ласковое. Выдержали отдых (только два дня, а там предложили свои услуги совхозу, которому принадлежали эти виноградники. Молодые, здоровые руки – они не привыкли бездействовать. Уборка винограда – одно удовольствие: огромные янтарные грозди накладывать в решето, а потом нести на плече. Виноград в тот год уродился на славу! Крупный, сочный, сладкий. Расчета мы не взяли. Попросили для раненых нагрузить часть ледника, что и было сделано. А когда раздавали его как дополнительный десерт и рассказывали откуда, благодарностям не было конца.
САМЫМ страшным был рейс из-под Вязьмы. Об этом рейсе уже у многих упоминалось. Я расскажу о своих впечатлениях... Идут жаркие тяжелые бои. Не успевают вывозить. Нас продвинули до предела – дальше нет пути. Мелкий кустарник – в нем раненые, которых доставляют. Приказано и в вагоны, не приспособленные для перевозки тяжелораненых, брать лежачих. Слышится канонада боя. Сроки погрузки предельно сжаты. Хочется забрать всех, но это невозможно. Над составом маскировочная сеть. Грузят всех на носилках. Поднять, развернуться в тамбуре, а затем пронести по вагону, в котором транспортировалось 60 человек. Если сейчас подумать, то кажется невозможно. Но хрупкие девичьи руки это делали. Какой ценой?!
Мы грузили, а над нами – немецкий разведчик, и вот последний раненый внесен, дана команда отъезжать – и немецкие самолеты. По поезду команда: «Находиться на рабочих местах!», а раненые просят: «Бегите, сестрички, живите, нам уж все равно ничего не поделать». Началась бомбёжка… Ушли мы из-под бомбёжки… Опытный машинист попал, да и вечер был, из-под осветительных ракет вышли. А окна всегда были закрыты светомаскировкой. В общем, ушли. Видимо, кто-то был рождён под счастливой звездой. Мы целы и почти невредимы. Какое чувство пережито? За себя не страшно, нисколечко не страшно, а вот за раненых. Жаль их было, беззащитных, очень хотелось, чтобы ничего с ними не случилось. Правда, от воздушных волн некоторые попадали с полок, были повторные кровотечения (это очень опасно). Весь медперсонал был начеку. Были приняты срочные меры помощи – и опять повезли наш драгоценный груз в безопасное место. Из нашего вагона по пути следования пришлось снять одного юношу, мл. лейтенанта. Он был в очень тяжелым состоянии, часто терял сознание, побелевшие губы шептали одно слово: «Мама, мамочка…»
ТЯЖЕЛО было во время груженых рейсов. Но команда поезда была сплочённой, самоотверженной. Никто не ныл. Когда ехали порожняком и задерживались по каким-либо причинам (чаще всего из-за опасности проезда через крупную станцию), всегда находили дело: помочь в уборке урожая, покрыть крышу и др. А однажды, узнав, что госпиталь г. Вологды без топлива, 40 человек команды добровольно изъявили желание работать в Плесецком лесокомбинате (поезд тогда стоял на ремонте)…
Осень. Холод. Слякоть. Мы идём пешком на берег реки Ладоги. Баграми ловим из воды заледеневшие бревна и тащим их на берег. Нет опыта. Часто кто-то падает в ледяную воду. Невыносимо тяжело. Но в госпитале холодно. Надо! РЭП-45 благодарит. Хоть маленькую крупицу сделали… Зато нашему почину последовали другие. Критический период, трудности госпиталя преодолели, и опять вперёд. Ближе к победе.
С содроганием вспоминаю Сталинград. Ничего живого. Руины. Срочно надо грузить раненых и обеспечить водой. А нас ведь мало, где-то 80 человек. Одни грузят раненых, другим надо заправить состав вручную. Только на кухню надо 600 вёдер, а ещё в каждый вагон. Главное, на вокзале одна действующая колонка. Далеко, метров 800, а то и километр от поезда. Заправляем состав водой, надо успеть, пока грузят, чтобы сразу отправиться из опасного места. Сил нет, подкашиваются ноги, но все держатся. А у меня перед глазами Ага Галонюк. Она всегда стояла на подножке. Кто-то стоял внизу, кто-то на крыше, а она – на самом трудном участке, ведь ведро, и не одно, а 600 надо поднять выше головы. Как она это делала?! Уму непостижимо, да ещё на нас в шутку покрикивала, подшучивала, улыбалась.
Как-то мы с ней недавно разговорились, расхвасталась. «Места живого нет, так болят руки», - сказала она. Мне очень хорошо понятно, почему они у нас так болят… эти так много делавшие девичьи руки. Под стать ей была Наташа Ноговицина, Дуся Чернышева, Вера Грохольская, Миля Азанова, Зоя Олькова, Лида Лазукова. Если говорить о Зое Ольковой, то вообще нет слов, какими можно описать её самоотверженный труд. Много о ней писалось в рукописном журнале «Красноармеец». Неутомимая - стало её именем. Если берёшь тяжелое бревно, Зоя берет конец потолще. Всегда вставала на трудный участок. Девушки из Егоршино: Нина Щербакова, Маруся Третьякова, Маруся и Ася Дудины были костяком поезда, опорой комсомольского бюро, инициаторами всего нового.
(Книга–альбом «Военно-санитарный поезд № 227», часть вторая. МБУ ЦАД», Фонд 66 «Лазукова Л.П. самодеятельная поэтесса – песенница», опись 1, ед. хр. 17, л.л.14-18)