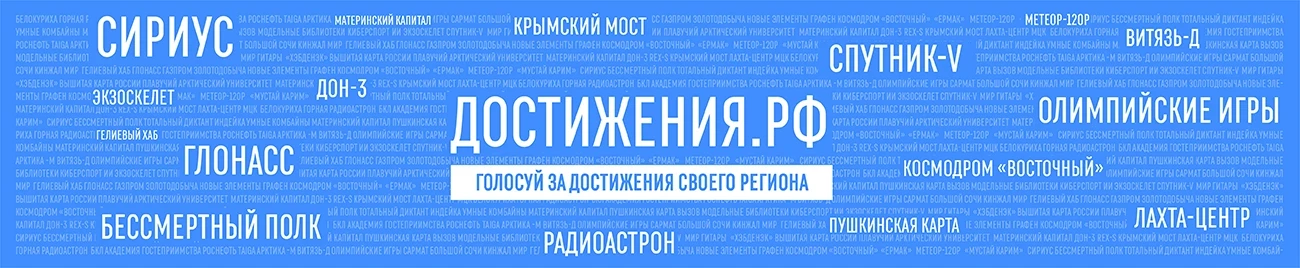Егоршинский радиозавод помогал фронту в полную силу, поставляя очень нужную военным продукцию. А как удавалось выполнять план и кто трудился на нем в годы войны? Об этом в записанных ранее воспоминаниях его работников.
1 августа 1941 года директор Егоршинского радиозавода Я.Е. Яговитин получил правительственную телеграмму, текст которой гласил: «…. из Киева в Егоршино идут эшелоны эвакуированного радиозавода. Нужно срочно подготовить производственные площади, жилье для людей».
О Киевском радиозаводе в Егоршино знали. По выпускаемой продукции Киевский радиозавод был родственен Егоршинскому радиозаводу, тоже выпускал радиодетали.
Перед войной 1940-1941 годы, Киевский радиозавод переводят в систему Народного комиссариата электропромышленности (НКЭП) и поручают освоение танковых переговорных устройств (ТПУ) и танковых телефонов (ТТ). Но в Киеве завод успевает выпустить только опытные партии и в первый день войны город подвергается вражеской бомбардировке. Работники радиозавода призываются в армию, уходят добровольцами и записываются в народное ополчение.
Из Москвы приходит указание об эвакуации. 11 июля 1941 года два эшелона с оборудованием радиозавода отправились на восток и 3 августа прибыли в Егоршино.
Новое оборудование налаживалось трудно и не так быстро, как того требовала обстановка. Продолжалось размещение оборудования. Но все сдерживало отсутствие квалифицированных кадров. Остались считанные единицы опытных слесарей, фрезеровщиков, автоматчиков. Да и тех с великим трудом удавалось директору отстаивать перед военкоматом. Приходилось делать ставку на женщин-домохозяек, стариков и 15-16 летних подростков. От школьной парты ребята становились к станкам. Приводим воспоминания работников Егоршинского радиозавода о своей работе на Егоршинском радиозаводе в годы Великой Отечественной войны.
Воспоминания Брылина А. И., записанные в 1981 году, о его работе на заводе в 15-ти летнем возрасте.
«Мой стаж работы на заводе исчисляется с октября 1944 года. Но завод я знаю с 1942 года. В годы войны применялась такая форма привлечения рабочей силы – прием на работу школьников на время летних каникул.
Пятнадцатилетним пареньком, после окончания 7 классов сельской школы был принят учеником слесаря–сборщика в цех № 1, расположенный в здании гаража бывшей Егоршинской МТС.
На всю жизнь запомнился первый рабочий день. Мне поручили разбраковать кучу листов железа по толщине. Мастер Шайданов сунул мне в руки микрометр, показал, как им пользоваться. На его удивление я понял устройство микромера сразу и в тот же день выполнил порученную работу. Запомнил и первую свою деталь, когда на второй день мне поручили обработку петли для замка. Зажатая в тисках петля при обработке ее напильником нудно дребезжала, что отдавалось в зубах. И хотя при норме 160 штук я зачистил только около 20 петель. Измучился за смену и так возненавидел эту деталь, что позднее, когда перевыполнял нормы на многое другие детали, петлю обрабатывать в нужном количестве не смог. Мастер же Яговитин не настаивал на этом, наверное, чтобы не терять времени. Мой сосед по работе, парень чуть постарше меня, обрабатывал за смену 400-450 петель.
Работать было трудно. Работали по 11 часов, в две смены. По 11 часов работали те, кому еще не было 16 лет. Шестнадцатилетние же привлекались к сверхурочным работам еще на 2-4 часа в день (сверх 11 часов).
Питание было плохое. На день ученику полагалось 600 граммов хлеба, в столовой давали обед с жиденьким супом и крохотным вторым. Особенно тяжело нам, ребятам, да еще жившим в селах, приходилось в пересменки, когда необходимо было подряд отработать две смены по 11 часов.
Ездил я на работу из Покровска на грузовом поезде, иногда на пассажирском. На вокзале меня часто задерживала милиция. В худенькой грязной одежде мы, рабочие парни не отличались от бездомных сирот. Выручал пропуск, покажешь милиционеру – и свободен.
О начале работы и конце смены рабочие в цехе извещались сиреной. Помню, где-то числа 10-12 августа гудок раздался раньше времени. Оказывается, собирался митинг по случаю варварской бомбежки фашистами Сталинграда. Рабочие с возмущение выступали, обещая встать под лозунг: «Не отдадим Сталинграда!», вносили средства в фонд обороны, обещали выполнить задание Государственного Комитета Обороны по обеспечению фронта радиодеталями, которые завод тогда выпускал. Помню выступление эвакуированного из Киева Фельдмана. Он указал на одного старика, работавшего шорником. Оказывается, этот товарищ, фамилию его я не запомнил, сдал в фонд обороны последние брюки. У него осталась (он был эвакуированный) только рабочая одежда. Надо сказать, что особенно тяжело приходилось эвакуированным. У местных, к получаемому пайку хоть была картошка, а приезжие этого не имели. Помню, что это старик не дожил до победы, умер от истощения.
После митинга, нас 15-летних, собрал начальник цеха Павел Васильевич Бурдин. «Я вас не могу оставлять свыше 11 часов, - обратился он, - но прошу вас поработать. Задание для фронта без вас, ребята, нам, взрослым, не выполнить».
Начальник цеха отдал нам свой кабинет, где были установлены двухэтажные нары: тут в короткие ночные перерывы мы спали. За сверхурочную работы нам выделяли талоны УДП. Назывались они «Усиленное дополнительное питание», и состояли из ложки – полутора перловой каши. В цехе, в шутку, по-своему расшифровали сокращенное название: УДП – «Умрешь днем позже».
Несмотря на то, что в цехе работала в подавляющем большинстве молодежь, дисциплина была высокая. Помню, я в ночную смену, уже под утро, когда сон предательски клонит голову к верстаку, директор завода обнаружил штамповщику Баканову, ей было тогда 16 лет, заснувшей у пресса. Назавтра же появился строгий приказ о ее наказании. Баканову этот приказ не расслабил. Через несколько дней, она совершила трудовой подвиг, выполнила задание на 400%. Это было отмечено директором завода.
Трудности скрашивались сознанием, что твоя работа идет на фронт. Хотя я работал в механическом цехе, там знали счет, и почти каждому говорили конкретно: «Выполнение твоего задания обеспечит выпуск стольких-то готовых изделий».
Лозунг на стене: «Все для фронта». Тревожный голос Левитана из репродукторов, письма с фронта давили на сознание, поднимали чувство ответственности, сделав нас взрослыми раньше срока.
Но, несмотря на это, дети оставались детьми. Помню, как мы бегали в проходную, где охранником стоял высокий, всегда укутанный старик и дремал. Дернуть его за шарф считалось какой–то доблестью. Позднее я узнал, что это был известный украинский дирижер Корсаневич. В ночную смену часто устраивались шутки над уснувшими и задремавшими.
В октябре 1942 года, несмотря на трудное положение, правительством было принято решение с 10 октября школьников вернуть за парты и начать учебу. Так я вновь пошел учиться….. На завод вернулся в октябре 1944 года и был принят в отдел главного конструктора. С этих пор 37 лет проработал на заводе»
Воспоминания Ярошевской Г.А., записанные 20 декабря 1980 года, работавшей на Егоршинском радиозаводе с 1939 года.
« …….Я с эвакуацией завода была назначена на должность старшего табельщика. Проработала три месяца и меня назначили экономистом в механо–штамповочный цех № 1, в помещение МТМ, где ремонтировались тракторы.
Окна были разбиты, потолок не был утеплен. Вот в таких условиях работали первую зиму. Эмульсия на станках замерзала, чернила, естественно, застывали, помню, в ремонтном цехе стояла железная печка. Вот она топится, прибегут к ней рабочие, руки немного отогреют и опять к станку. Без телогреек делать было нечего. Мы, конторские работники, ни с чем не считались, как только выпадет свободное время, бежишь в цех и помогаешь: то сверлишь, то зенкуешь, а в основном все время помогали накручивать корпуса ТГШ на шлемофон.
Оборудование было плохое, инструмент тоже, резьба никак не подходит и все руки были в кровавых мозолях. Но мы ни с чем не считались, знали, что нужно помогать фронту, и все время выполняли производственный план. В конце месяца всегда назначалось казарменное положение. Начальство не выходило ни на одну минуту, а нас направляли на вторые смены в сборочные цеха. За это никогда не выписывались наряды, и мы об этом даже и не помышляли: раз нужно – значит нужно. Работали все время по 12 часов, без выходных дней, а если выдастся один выходной, для нас был праздник, и мы молодежь, еще умудрялись куда-нибудь съездить с концертом.
Машин не было, детали с МТМ на территорию завода возили на лошадях. Часто детали носили на себе, а весной по улице Свободы не пройти, ни проехать было: сплошное озеро, даже самой не верится, что так было.
В цехе работали дети лет 12-13, все окоченеют, заберутся куда-нибудь в угол в пластмассе (там было потеплее) и уснут. Это в ночную смену, помню, приходили на работу утром, а мастер Яговитин (сейчас он уже умер) нам рассказывает: «Вот с такими работниками, а план выполняем».
В 1949 году я снова была назначена на должность экономиста в ПЭО завода. Много лет я работала в должности начальника бюро цен, оттуда я ушла на заслуженный отдых. В общем, всю жизнь проработала на этом заводе, я и сейчас говорю «наш завод», «на нашем заводе» и иначе не могу».
Книга «Воспоминания ветеранов труда о трудовых победах на Егоршинском радиозаводе за 1931 – 1981 годы».
Подготовлено Т. Хилько Артемовский, 1981. МБУ «ЦАД» Ф. 62, оп. 1, ед. хр. 188.